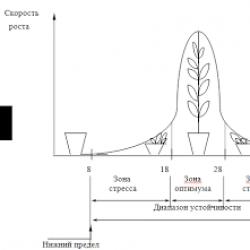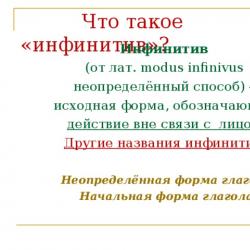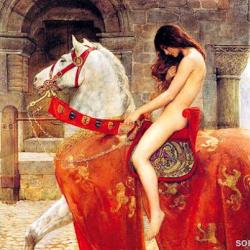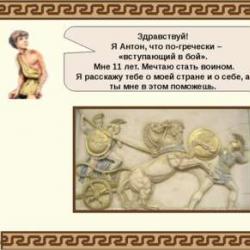История и мы. История и мы Подвиги героев отечественной войны 1812
Подвиги и чудеса Отечественной войны 1812 года
В тени страшной войны - Великой Отечественной, когда еще живы ее свидетели и она представляется ярко и зримо, война 1812 года рисуется нам преимущественно в героическом ореоле, в памяти все-таки больше осталась однажды заданная тональность: «Да, были люди в наше время». А ведь тот подвиг русского народа не менее велик. О нем остались письменные воспоминания. Раскроем их, и до нас донесутся из двухсотлетней давности забытые голоса обычных людей со своими радостями, заботами, грехами и страстями.
В той общенациональной беде ломались судьбы, пресекались целые роды и рождались новые, люди так же переживали, страдали, любили и ненавидели, теряли и обретали кто кров, а кто - отечество.
В нашествии «двунадесяти языков» на Россию 1812 года тихо и незаметно ткался узор человеческой жизни на полотне, называемый современниками обыденно - жизнь, потомки же зовут это историей! Узор этот порой бывает причудлив. И на первый взгляд выглядит игрой случая. Но так только кажется. В далеких друг от друга событиях зачастую можно увидеть более или менее явную связь, и тогда события предстают в несколько ином свете.
Об одном из эпизодов войны, напрямую связанным с нашим краем, поведаем. Откроем летописи звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря, погрузимся в события достопамятного 1812 года. После Бородинского сражения и русские, и французы по старой Смоленской дороге продвигались к Мос-кве. 28 августа командующий 4-м пехотным корпусом Великой армии Наполеона принц Эжен Богарнэ получил приказ Бонапарта выйти из Можайска на Звенигород, далее двинуться по звенигородской дороге на Москву и от-резать арьергард русской армии.
Эжен, или Евгений Богарнэ, - итальянский вице-король, сын Жозефины и пасынок Наполеона. Его имя высечено на южной стороне Триумфальной арки на площади Звезды в Париже.
Кутузов, узнав об этом маневре французского императора, направил к Звенигороду отряд генерал-майора Винценгероде. Двухтысячный русский отряд всячески затруднял движение в десять раз превосходящего их по численности французского корпуса, но силы были слишком неравны. Ранним утром 31 августа французы подошли к монастырю святого Саввы Сторожевского, остановившись на привал у южного его склона. Произошло небольшое сражение русских с французами. Казаки показывали чудеса храбрости, взяли пленных, не потеряв ни одного человека. Но - отступили. Из донесения Винценгероде императору Александру I: «Малый отряд мой... делал все, что можно было для сопротивления многочисленному корпусу, но естественно принужден был уступить превосходству». И все-таки у Саввино-Сторожевского монастыря корпус Богарнэ остановлен на шесть часов. Не задержи французов на это время, кто знает, где бы ночевал принц Евгений. А так... В ночь с 31 августа на 1 сентября французский корпус частью остался в тихом Звенигороде, остальные разместились в монастыре. Вице-король Богарнэ остановился в одной из келий обители. Опасаясь нападения казаков, на ночь вокруг монастыря французы расставили часовых.
В воспоминаниях наполеоновских офицеров монастырь обрисован по-разному. Одни называют его прекрасным замком, у других обитель предстает старой, почти разрушенной. Надо заметить, что еще до Бородинской битвы наиболее ценные монастырские вещи и документы были отправлены в обозе в Москву; покинула Саввину обитель и основная часть монахов. Однако не все.
Французы собрались уж было выса-живать монастырские ворота, когда им их открыл монах. Он же, вместо того, чтобы отвести офицеров к настоятелю, предложил им пройти в келью. Лейтенант инженерных войск Эжен Лебом вспоминал: «Я заметил одного благочестивого отшельника, который собирался укрыться в одной почти подземной келье. Этот инок, чувствуя мое хорошее к нему отношение, признался, что говорит по-французски... «Французы пришли на территорию России, - сказал мне этот почтенный монах, - они опустошили нашу родину... Но, игнорируя наши нравы и наш характер, они полагают, что мы покоримся рабству и что, вынужденные выбирать между нашей отчизной и нашей независимостью, мы скоро, подобно другим, зачахнем в кандалах и отречемся от национальной гордости, которая составляет мощь народа. Нет, Наполеон ошибается, мы слишком просвещены, чтобы терпеть его тиранию, и недостаточно испорчены, чтобы предпочитать рабство свободе».
Показательный пример: дочь императора Павла I на предложение выйти замуж за Бонапарта ответила: «Я лучше пойду за последнего русского истопника, нежели за этого корсиканца». Выражавшихся по-французски народ сдавал в участок, откуда уставшая полиция провожала их через черный ход. Но то внешнее проявление. Куда как важнее то, что русский человек остался русским.
О дальнейших событиях той ночи, что навсегда вошли в летопись обители, через 25 лет после происшествия поведал сын Евгения Богарнэ: «Было уже около 10 часов вечера. Отец мой, утомленный от большого перехода верхом, отправился в особую комнату, приготовленную для него монахами. Здесь он не мог припомнить, во сне или наяву, но он видит, что отворяется дверь в его комнату и входит тихими шагами человек в черной длинной одежде, подходит к нему так близко, что он мог при лунном свете разглядеть черты лица его. Он казался старик с седой бородой. Около минуты стоял он, как бы разглядывая принца, наконец, тихим голосом сказал: «Не вели войску своему расхищать монастырь и особенно уносить что-либо из церкви. Если исполнишь мою просьбу, то Бог тебя помилует, ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым». Сказав это, старец тихо вышел из комнаты». Наутро Евгений Богарнэ, «войдя в храм, увидел гробницу и образ, который поразил его сходством с человеком, представившемся ему ночью». На вопрос - кто это, один из монахов отвечал, что это образ Святого Саввы, основателя монастыря, тело которого лежит в гробнице вот уже пятую сотню лет. Принц Евгений с благоговением поклонился мощам, попросил у иноков образ Саввы Сторожевского и благо- словления наместника. В дальнейшем ни в одном из сражений он не был ранен, благополучно вернувшись в Европу. А ведь при отступлении из России корпус Богарнэ терял людей тысячами.
Явление интервентам русского святого как знака свыше - случай редкий, но не уникальный. Вспомним видение Тамерлана в Ельце. Происшествие в Саввином монастыре можно было бы считать литературной выдумкой, если бы не одно «но». Принц Богарнэ - католик, и с древнерусской житийной литературой знаком едва ли. Впрочем, каждому из читающих - по вере его.
Справедливости ради надо отметить, что несмотря на запрет Богарнэ грабить монастырь, он все-таки подвергся частичному разорению. Впрочем, не факт, что это дело рук солдат 4-го корпуса, ибо после их ухода обитель в тот же день занял 3-й кавалерийский корпус генерала Гриуа. Генерал же списал разорение на 4-й корпус... Как бы там ни было, а сожжена кровать государя Алексея Михайловича, ободраны дорогие кресла, исчезли редкие живописные работы, среди которых портреты Петра I и Софьи Алексеевны, писаные в Риме. Разбиты зеркала, содраны прекрасные обои - дар обители царицы Елизаветы Петровны, выбиты и изломаны рамы, печи, потолки.
Затем в сентябре-октябре на Саввин монастырь не раз нападали группы французских мародеров, их манили кажущиеся монастырские богатства.
Правда, французские находники побаивались действовать открыто, страшное для них имя Фигнера властвовало в этих краях. Действительно, хладнокровный и храбрый партизан был жесток с завоевателями. «Саввинское подворье (в Охотном ряду) было разграблено, но во время московского пожара образ преподобного Саввы остался невредим».
Счастливо выйдя из горнила войны 1812 года, принц Евгений незадолго до смерти рассказал одному из своих сыновей - Максимилиану - о своем чудесном видении, передал ему образ святого и заручился обещанием, что если когда-либо судьба приведет его в Россию, он обязательно должен побывать в Саввино-Сторожевском монастыре и поклониться святому.
В 1837 году, когда герцогу Максимилиану исполнилось уже 20 лет, он впервые попал в нашу страну, в качестве лейтенанта кавалерийского полка со-провождая баварского короля Людовика. Вскоре Максимилиан был представлен дочери русского императора Николая I Марии. Спустя некоторое время после знакомства, в том же 1837 году, состоялось обручение Максимилиана Богарнэ и великой княгини Марии Николаевны. Спустя два года, 14 июля 1839 года, русский императорский двор играл пышную свадьбу - за герцога Лейхтенбергского Максимилиана выходила замуж старшая дочь Николая I Мария. По этому поводу поэт Аркадий Родзянко написал экспромт: «О, дивная судьбы игра! /В дни наши брак чудесный совершился/Сын венчанного столяра/На внучке плотника женился». С праправнучкой «державного плотника» Петра I все ясно. А «венчанным столяром» Родзянко называет Евгения Богар- нэ. Когда французский революционный суд приговорил его отца Александра Бо- гарнэ к гильотине, Евгений вынужден был пойти на обучение к парижскому столяру. Обратим внимание на дату свадьбы - 14 июля. 50 лет со дня взятия Бастилии.
Сразу после венчания молодые от-правились в Саввино-Сторожевский монастырь поклониться святым мощам преподобного Саввы - ведь звенигородский чудотворец сохранил жизнь Евгения Богарнэ, отца Максимилиана.
У Максимилиана и Марии Николаевны было семь человек детей. Одна из дочерей - Евгения Максимилиановна, в замужестве Ольденбургская, и есть будущая владелица знаменитого Рамонского имения под Воронежем.
Для потомков вице-короля Италии Богарнэ Россия стала новой родиной. Эта линия Романовых особенно почитала преподобного Савву. На рубеже XIX - XX веков в России для распространения духа просвещения организовывалось много православных братств. Под патронатом великого князя Сергея Александровича 6 сентября 1901 года торжественно открылось Саввинское православное братство, на нужды которого многие состоятельные люди вносили пожертвования. Особенно усердствовали князья Юсуповы и Евгения Максимилиановна Ольденбургская. На ее средства бедным ученикам различных учебных заведений выделялись пособия, лекарства, организовывались экскурсии. Для жителей Звенигорода по инициативе Евгении Максимилиановны в 1907 году провели несколько показов через «волшебный фонарь» «туманных картинок». Успех - колоссальный! Надо сказать, что «звенигородские сеансы» организовывались после того, как на территории современного Рамонского района впервые в Воронежской губернии продемонстрировали «туманные картинки», в основном, конечно, духовного содержания.
Ровно через 100 лет после Отечественной войны и за 100 лет до наших дней, осенью 1912 года, в Вене, в сербской православной церкви святого Саввы, венчались Наталья Вульферт (Брасова) и родной брат Ольги Романовой, супруги последнего владельца Рамонского замка, - Михаил.
Некоторые эпизоды событий, про-изошедшие с Евгением Богарнэ в Саввино-Сторожевском монастыре, использовал русский писатель-монархист Рафаил Михайлович Зотов. В его романе «Два брата, или Москва 1812 года», есть эпизод с отшельником московской обители, знающим французский язык и беседующим на нем с занявшим монастырь неприятельским полковником. В романе, как и в подлинных звенигородских событиях, французов не пустили к настоятелю. И французский полковник выведен романистом не худшим представителем, хотя и врагом, по-своему рассуждающим на завоеванной тер-ритории. Конечно, за основу Зотов взял другой эпизод, случившийся в 1812 году в оставленной жителями полыхающей Москве, однако писатель создал собирательный образ и по законам жанра расцветил его. Зато в автобиографическом произведении Рафаила Михайловича «Рассказы о походах 1812 года прапорщика Санкт-Петербургского ополчения Зотова» автор с собственным восприятием происходившего вокруг и личными переживаниями предельно точен. «Рассказы» эти ценны для воронежцев тем, что первые походы и бои Р.М. Зотова начались совместно с Воронежским пехотным полком, что и отражено в его произведении.
Еще в начале 1811 года полковнику Михаилу Федоровичу Наумову поручили сформировать Воронежский пехотный полк, который должен был усилить нашу армию ввиду предстоящей войны с Наполеоном. Наумова же поставили шефом полка. Быстро сформировав полк, Михаил Федорович в начале войны находился с ним в столице, а с началом военных действий он получил задание обучить стрельбе, ружейным приемам и строевой службе питерское ополчение. Юный Рафаил Зотов пишет: «Тогда все кипело какою-то быстротою в действиях, в словах, во всех поступках... Кто бы теперь поверил, что 14 000 человек, только что оторванных от сохи и не имевших никакого понятия о военной службе, обучены были всем приемам экзерции в пять дней... Только с русским народом можно сделать такие чудеса». Так преуспел шеф Воронежского полка М.Ф. Наумов, а питерское ополчение считалось одним из наиболее подготовленных и боеспособных.
Предстояли бои за Полоцк. Дружине Зотова надлежало вместе с Воронежским пехотным полком идти от селения Юревичи и прикрыть наши артиллерийские орудия.
Время года - октябрь. «Вскоре мы вступили в лес. Грязь была по колени; дорога ужасная, едва проходимая». Так пишет Зотов. При первых обстрелах неприятеля ополченцы, не нюхавшие пороха, непроизвольно подались назад. «Тут влево от себя увидели мы тихо и стройно отступающих воронежцев и догадались, что мы перед этим тоже отступали, но уж слишком быстро». Замечателен психологический штрих: «Помню, как в это время подле меня один славный урядник, заряжая на ходу ружье (как говорил он: на всякий случай), поражен был пулей прямо в лоб... и упал навзничь, держа еще в зубах недокусанный патрон. Что ж? Я первый, совсем недавно до слез тронутый страданием умирающей лошади, расхохотался над этим, торчащим во рту патроном, и все бывшие вокруг меня солдаты и офицеры разделяли мой смех... Странная человеческая натура! Как скоро, как легко приучается она к страху и страданиям».
Вскоре ополченцы соединились с Воронежским полком, «...и наше прибытие придало ему духу. Мы примкнули к правому их флангу и с жаром принялись за перестрелку. Вдруг увидели мы, что они (баварцы - И.М.), прекратив огонь, идут на нас в штыки... Фронт наш двинулся; офицеры отошли за фронт и обходили свои взводы, уговаривая солдат не робеть. В этот раз и баварцы не оробели, а с дерзостью шли на нас. Через несколько минут оба фронта сошлись, и началась рукопашная...».
Баварская колонна потерпела поражение. Ополченцы и Воронежский полк при помощи ямбургских драгун сумели отбросить неприятеля. Затем воронежцы отошли «за выстрелы» к резерву, правее на десяти верстах кипела битва. После Воронежский полк и две дружины ополчения схлестнулись с французскими конными латниками, приняли их сильным артиллерийским огнем, картечью и при помощи тех же драгун отбросили французов. Но всего этого Рафаил Зотов уже не видел - он был ранен. На подходе к городу Полоцку «Все поле сражения 6 октября лежало перед нами, еще свежее, неубранное, заваленное грудами тел, подбитыми лафетами, ящиками, пустыми батареями и умирающими лошадьми. Осенняя трава в поле имела местами почерневший от крови след».
Далее Воронежский полк сражался под Чашниками и Смолянами. Из-за ранения в этих делах Зотов не участвовал. Зато в упомянутых боях пролил кровь наш земляк, прапорщик Невского пехотного полка Сергей Яковлевич Богданчиков. Родом из «села Ертила на Битюге Бобровского уезда», из однодворцев, в 1812 году Богданчиков был уже не новобранцем. За его плечами значились и бои, и походы. Воспоминания Богданчикова дошли до нас в виде записок его внука Михаила, потомственного почетного гражданина города Павловска-на-Дону. Воспоминания Михаил Богданчиков составил к столетнему юбилею Отечественной войны, по памяти записав свои детские впечатления, слышанные от деда. Конечно, есть в них и неточности - внук уже на седьмом десятке лет записывал дедушкины воспоминания молодости, но это - чуть ли не последние мемуары об Отечествен-ной войне 1812 года.
Эти воспоминания дают наглядное представление о том, как бесславно покидала Россию великая армия Наполеона. И особенно ценно то, что слова Богданчикова - слова простого русского солдата, вынесшего тяготы войны, при этом сама его речь сродни фольклору: «Там такая сила их скопировалась, что на мосту не могли поместиться наши. Подпалили мост, который и рухнул, и они все утопли, которые еще не могли перейти. Дедушке пришлось идти через Березину по головам французов, и в это время с того бока подъехала коляска, и Наполеона здесь ранили, посадили в коляску и на глазах дедушки увезли...»
Много славных деяний наших предков! Одни из них хорошо известны, другие менее. Эмигрантом во Франции окончил свой жизненный путь сын Евгении Максимилиановны, правнук Эжена Богарнэ - Петр Ольденбургский. Во французской земле в православном монастыре Покрова Божией Матери нашла тихий приют наша современница, монахиня матушка Елизавета, что в местечке Бюсс-сен-от. Это между Базелем и Парижем. Она - трижды правнучка Евгения Богарнэ. В миру - принцесса Лейхтенбергская.
Франция... А пейзаж - русский! Обитель православная, а инокиня - прямой потомок участников описанных здесь событий и эпизодов.
Игорь Маркин
Кампания 1812 года хорошо известна по большим книгам, в которых профессиональные историки подробно рассказывают ход событий, описывают сражения и говорят о планах сторон. Но помимо «большой» истории всегда существовала «малая». История отдельного человека, не имеющего больших чинов, но вовлечённого в водоворот событий той войны.
Такие люди занимали разное положение в обществе, но всех их объединяло одно: храбрость и готовность сражаться за своё Отечество.
Павел Пущин, служивший в 1812 году в Лейб-гвардии Семёновском полку, рассказал счастливо завершившуюся историю о патриотически настроенном дезертире. Произошла она сразу после начала Отечественной войны 1812 года.
«Один артиллерист, желавший служить в кавалерии, дезертировал и записался в улановский полк; здесь по стрижке волос его уличили и судили в Вильно. Попав в плен как раз по вступлении неприятеля в город, этот молодец, несмотря на предстоящую смертную казнь, убежал из плена, явился к генералу Ермолову и чистосердечно всё ему рассказал. За такую преданность его простили и зачислили в кавалерийский полк, как он того желал».
В бытность свою начальником Санкт-Петербургского ополчения Кутузов проводит приём ратников. Художник С. ГерасимовРафаил Зотов, который вскоре стал известным романистом и драматургом, записался в Петербургское ополчение. Вот как он описал первые дни подготовки нового войска.
«Тогда всё кипело какой-то быстротой в действиях, в словах, в поступках. Кто бы теперь поверил, что 14 тысяч человек, только что оторванных от сохи и не имевших никакого понятия о военной службе, обучили всем приёмам экзерциции за пять дней? Может быть, скажут: «Ну, и так уже всё знали!» - Нет! клянусь, что не только все маршировали скорым шагом очень ровно (церемониальный отложили на время), не только делали все ружейные приёмы и стреляли по команде и без команды, но даже строили колонны по разным взводам и каре. И всё это за пять дней, или, лучше сказать, за пять суток, потому что в длинные летние дни мы и по ночам почти не сходили с Измайловского плац-парада. … Только с русским народом можно сделать такие чудеса».
 Подвиг артиллеристов батареи Раевского. Студия военных художников им С. Н. Трошина
Подвиг артиллеристов батареи Раевского. Студия военных художников им С. Н. Трошина
Николай Андреев, только что поступивший на службу молодой офицер 50-го егерского полка, рассказал о Бородинском сражении, участником которого стал.
«В полдень 26-го я с капитаном нашим Шубиным поехал на пригорок, где слышался необыкновенный шум, и что же? Мы видим: два кирасирских полка, Новороссийский и Малороссийский, под командою генерал-лейтенанта Дуки, пошли на неприятельскую батарею. Картина была великолепная! Кирасиры показали свою храбрость: как картечь ни валила, но хотя бы половиною силы они достигли цели, и батарея была их. Но что за огонь они вытерпели, то был ад!
Я видел, когда сняли с лошади незабвенного нашего князя Багратиона, раненого в ногу, и как он был терпелив и хладнокровен: слезал с коня в последний раз и поощрял солдат отмстить за себя».
 Подвиг солдат Раевского под Салтановкой. Художник Н. Самокиш
Подвиг солдат Раевского под Салтановкой. Художник Н. Самокиш
Александр Чичерин, офицер лейб-гвардии Семёновского полка, прошёл всю кампанию 1812 года и на её протяжении вёл дневник. По записям в нём можно понять, насколько отличались настроения офицерства после Бородинского сражения:
«Мы потеряли Смоленск и Дорогобуж, светлейший (Михаил Кутузов, имевший титул светлейшего князя) прибыл к армии, сопровождаемый благими пожеланиями всей империи. Но тут же возникли новые сговоры, появились новые партии. Только что его хвалили за победу при Бородине, а назавтра стали упрекать за нерешительность.
После сдачи Москвы его обвиняли в слабости, равной предательству, а несколько дней спустя те же, кто обвинял, нашли ему оправдание. Недавний смертельный - без причины - враг теперь хвалил его, потому что светлейший мимоходом бросил ему любезное слово; восторженный сторонник становился врагом, ведь светлейший прошёл мимо и не поздоровался. Предателей все знают, на них указывают пальцами, и никто не смеет разоблачить. Все восхищаются про себя хорошими генералами, и никто не смеет похвалить их; наши успехи преуменьшаются, наши потери преувеличиваются».
 Московские ополченцы в боях на Старой Смоленской дороге. Художник В. Келерман
Московские ополченцы в боях на Старой Смоленской дороге. Художник В. Келерман
Иван Лажечников, будущий знаменитый писатель, служил в 1812 году в ополчении, куда он записался против воли родителей, сбежав из дома. Вот его рассказ о вступлении русских войск в оставленную французами Москву:
«В Москву въехали поздно вечером. Неприятель уже оставил город: у заставы на карауле были Изюмские гусары; они грелись около зажжённых костров. Русские солдаты, русский стан были для нас отрадными явлениями. Мы благоговейно перекрестились, въезжая в заставу, и готовы были расцеловать караульных, точно в заутреню светлого Христова Воскресения. И было чему радоваться: Россию спасли!
Москва представляла совершенное разрушение; почти все дома обгорелые, без крыш; некоторые ещё дымились; одни трубы безобразно высились над ними. Оторванные железные листы жалобно стонали; кое-где в подвалах мелькали огоньки. Мы проехали весь город до Калужской заставы, не встретив ни одного живого существа. Только видели два-три трупа французских солдат, валявшихся на берегу Яузы».
 Смертельное ранение генерала Багратиона на Бородинском поле. Художник А. Вепхвадзе
Смертельное ранение генерала Багратиона на Бородинском поле. Художник А. Вепхвадзе
Большинство мемуаров о войне 1812 года принадлежали офицерам и дворянам, но сохранились истории рядовых солдат. Вот что в 1830 году вспоминал о своих командирах унтер-офицер Тихонов.
«Начальство под Бородином было такое, какого не скоро опять дождёмся. Чуть кого ранят, глядишь, а на его место двое выскочат. Ротного у нас ранили, понесли мы его на перевязку, встретили за второй линией ратников. «Стой!» - кричит нам ротный (а сам бледный, как полотно, губы посинели). «Меня ратнички снесут, а вам баловаться нечего, ступайте в батальон! Петров! Веди их в своё место!» Простились мы с ним, больше и не видали. Сказывали, в Можайске его французы из окна выбросили, от того и умер.
А то поручика у нас картечью ранило. Снесли мы его за фронт, раскатываем шинель, чтоб на перевязку нести. Лежал он с закрытыми глазами: очнулся, увидал нас и говорит: «Что вы, братцы, словно вороны около мертвечины собрались. Ступайте в своё место! Могу и без вас умереть!» Как перешли мы за овраг, после Багратиона, стали строиться. Был у нас юнкерок, молоденький, тщедушный, точно девочка. Ему следовало стать в 8-м взводе, а он, возьми, да в знамённые ряды и стань. Увидал это батальонный командир, велит ему стать в своё место. «Не пойду я, говорит, Ваше Высокоблагородие, в хвост, не хочу быть подлецом: хочу умереть за Веру и Отечество».
 Бивак. Художник А. Аверьянов
Бивак. Художник А. Аверьянов
Все эти истории неизменно доказывают, что героизм русских воинов не менялся с годами. Воспоминания о фантастических победах 1812 года заставляют задуматься о страшных мировых войнах ХХ века.
Простой народ - не генералы, не командиры в тылах - каждый день совершал удивительные подвиги. Ведь не зря писал мемуарист: «Только с русским народом можно сделать такие чудеса»!
Подвиги офицеров и солдат русской армии в сражении при Бородине. Сборник документов. [Отв. ред. И.О.Гаркуша] М.: Древлехранилище, 2012. – 708 с. Тираж 400 экз.
За 200 лет, прошедшие после Бородинского сражения, о нем написано колоссально много. Одних лишь многотомных исследований и документальных публикаций уже целый Монблан, не считая литературы художественной. Но все это время исследователи сражения кружат, по сути, вокруг одного и того же хрестоматийного ряда героев: генералы Багратион, Раевский, Милорадович, Ермолов, Тучков, Платов. Разумеется, в исторических трудах еще можно найти тех, чьи портреты оказались в Военной галерее Зимнего дворца. Вот, пожалуй, и все. Словно на Бородинском поле больше никого и не было, а десятки тысяч сражавшихся и погибших оказываются лишь массовкой. Но под французскими пулями, ядрами и картечью стояли не безымянные солдаты и офицеры, и не неизвестные пехотинцы брали неприятеля в штыки, и насмерть рубились совсем не анонимные гусары и драгуны. Однако 200 лет историки описывали лишь одни и те же сюжеты, одних и тех же героев-генералов, ограничиваясь в отношении прочего лишь материей сухой арифметики: столько-то тысяч убитых, раненых.
И вот эту лакуну – едва ли не впервые в нашей истории – начал заполнять Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), работники которого проделали колоссальную работу. Результатом их работы стал сборник документов «Подвиги офицеров и солдат русской армии в сражении при Бородине».
В строгом смысле это не полноценное описание собственно подвигов, а наградные именные списки на офицеров и «нижних чинов». Документы РГВИА свидетельствуют, что первые представления к наградам за Бородинское сражение были составлены уже на следующий день после него. Написаны они, разумеется, специфическим языком военных рапортов, с использованием принятых тогда типовых оборотов. Так ведь в задачу составителей списков, как пишут в своем сборнике специалисты РГВИА, «входило не столько художественное описание деятельности подчиненных, сколько подведение их отличий под соответствующую статью орденского статута или другого законодательного акта». Отсюда и кажущееся однообразие совершенного, предельная лаконичность и стандартность стиля, а нередко и отсутствие подробностей о конкретном месте боя и времени.
Хотя порой как раз именно этот лаконизм и дает наиболее яркое представление о реалиях сражения. Вчитываешься в представления к наградам, и уже совсем по-иному относишься к событию. Перед глазами не набившая оскомину оперативно-стратегическая схема (первая колонна марширует, вторая колонна марширует, третья колонна марширует…), а люди, с их делами, именами, фамилиями, званиями.
И здесь впервые, пожалуй, представлены документальные описания подвигов солдат – рядовых и унтер-офицеров. Одних лишь «нижних чинов», поименно представленных за Бородино к награждению знаками отличия Военного ордена (с 1913 года официально именуемым Георгиевским крестом), в этом сборнике насчитал почти 2900. Разумеется, это далеко не полный список героев Бородина: награждено было явно много больше, но, увы, немалая часть наградной документации в свое время просто не дошла до хранилищ нынешнего РГВИА – осталась в полках, сгинула после 1917-го. А из тех документов войны 1812 года, что осели в архиве, немало было уничтожено при советской власти, во времена так называемых макулатурных кампаний. Еще надо учесть, что погибших к наградам в то время посмертно не представляли.
А ОН – ПИСАРИШКА ШТАБНОЙ…
Даже из сухих строк начальственных рапортов можно почерпнуть немало сведений о солдатских заслугах. Так, фейерверкер 1-го класса 1-й артиллерийской бригады батарейной роты № 3 Федор Бердин «августа 26-го при селе Бородине, когда убит был офицер, то, заступя его место, командовал двумя орудиями и при неустрашимой храбрости цельными выстрелами отражал неприятельскую кавалерию, покушающуюся ворваться на батарею и примером своей неустрашимости ободрял при орудии рядов[ых]» (здесь и далее сохранена стилистика опубликованных документов. – В.В.). А его однобатареец, Петр Странеи, также фейерверкер 1-го класса, представлен к обер-офицерскому чину за то, что, когда неприятельская кавалерия ворвалась на батарею, «личною храбростию и деятельностию свое спас оную, и как была опрокинута сия кавалерия и орудия подбиты, то поспешным его распоряжением с помощию рядовых переложа одно из них на запасной лафет, действовал из обеих орудиев с отличною храбростию и мужеством до тех пор, пока неприятельским выстрелом оторвало ему левую ногу выше колена».
А вот представление к знаку Военного ордена барабанщика Екатеринославского гренадерского полка Ивана Дмитриева: «Находился с передовыми стрелками, напало на него три француза, хотели взять в плен, но он, не допустя до себя их шагов на несколько, брося барабан, [в]друг поднял с земли с раненого подле его тогда лежащего оружие, одного из них застрелил, а последних двух заколол и потом храбро наступал на неприятеля».
Cтоль же мужественно на Бородинском поле сражались, как тогда говорили, «нестроевые лица». Цирюльник Екатеринославского кирасирского полка Иван Лузыкин «неустрашимо и храбро при трех атаках на кавалерию и пехоту с прочими наравне отличился, также при сильном пушечном огне на месте сражения раненым подавал пособие, перевязывал и наконец ранен в правую ногу выше кисти (так в документе. – В.В.) пулею навылет». Представлен к награде полковой писарь Малороссийского гренадерского полка Данила Цыс: «Сей, хотя будучи и нестроевой, но из особенного усердия взяв самоохотно ружье после раненого, был в сражениях 24-го и 26-го числа в стрелках, удерживая свое место, подавал пример к поражению неприятеля, отличался отличась (так в документе. – В.В.) примерною неустрашимостию и побудил примером своей храбрости строевых нижних чинов, сверх того, когда ранен сильно штабс-капитан Остроградской 1-й, спас его жизнь унесением с места сражения оного».
Полковой старший писарь Новгородского кирасирского полка Давыд Черевков «1812 года августа 26-го дня, будучи в чине нестроевого, в котором имел случай избегать опасностей, он, презирая сие, охотно присоединился к полку, идущему в атаку, и вместе с прочими показал храбрость и неустрашимость своего духа, подавая собою пример ревности к службе государя императора». Вот вам и «писаришка штабной»!
ЯДРО НА ГРУДЬ
Офицеры Русской императорской армии показали себя в Бородинском сражении поистине блистательно. Как следует из выявленных специалистами РГВИА документов, за Бородино было награждено – орденами, золотыми шпагами (саблями) с надписью «За храбрость», повышением в чине, переводом в гвардию или получили высочайшее «благоволение» – свыше 1500 офицеров. Опять же, данные достаточно приблизительны. «На самом деле их больше», – пояснили мне архивисты. Опубликованы лишь выявленные сведения о тех офицерах, награждение которых было утверждено императором. Кто-то, будучи представлен, оказался обойден, а кто-то получил награду много позже – по совокупности заслуг, в числе коих учли доблесть и в Бородинском сражении. Опять же, погибших и умерших от ран посмертно к наградам не представляли. На 400 офицеров, пояснили архивисты, нет справочных документов.
Сколь беззаветно и честно офицеры исполнили свой долг, свидетельствуют не абстрактные цифры награжденных, а скупые строки наградных списков. Например, такие: «Ядром оторвало ногу», – это из представления поручика лейб-гвардии Преображенского полка, батальонного адъютанта Обольянинова (имя, увы, неизвестно) к ордену Св. Владимира 4-й степени с бантом. Подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка Нарышкин: получил на Бородинском поле «контузию от ядра в ногу и живот». Прапорщик того же полка Оленин 2-й – «получил контузию от ядра в грудь». Полковник лейб-гвардии Измайловского полка Храповицкий – «ранен в левую ляжку картечью навылет», полковник того же полка Козляинов – «у левой руки картечью оторвано два пальца», полковник Мусин-Пушкин 1-й, тоже измайловец, «картечью получил контузию в левый бок против титьки». Так воевали настоящие полковники!
Офицеры чинами младше – не хуже. Подпоручику того же лейб-гвардии Измайловского полка Летюхину 1-му в Бородинском бою «ядром оторвало левую ногу, а у правой сорвало пятку». Капитан лейб-гвардии Литовского полка Арцыбашев 1-й «ранен картечью в левую руку, командуя после подполковника Тимофеева баталионом до получения тяжелой раны в руку, которая и отнята по локоть, поступал с таковою же неустрашимостию». Лейб-гвардии артиллерийской бригады поручик Горданов «с искусным направлением своих орудий действовал на неприятельские батареи отлично, при чем оторвало картечью у него пятку». Прапорщик Норов – из той же бригады – «во время отличного действия по неприятельским батареям и его кавалерии лишился ноги, которую оторвало ядром». Батальонный адъютант поручик лейб-гвардии Егерского полка Репнинский, «храбро наступая на неприятеля, получил две раны и несмотря на оные оставался в сражении до получения третьей тяжелой раны».
Командир Перновского пехотного полка майор Лачинов «храбрый, решительный и хладнокровный отличный штаб-офицер, собою всегда первый подавал пример, разводил цепи стрелков, ходил на неприятельскую кавалерию в штыки, неоднократно опрокидывал оную, устроивая свою колонну всегда в порядке, ему оторвало правую ногу». Генерал-лейтенант граф А.И.Остерман-Толстой испрашивает для храбреца чин и орден Св. Георгия 4-й степени. Поручики того же полка Потулов, Карпов, Трусов «отличные своею храбростию офицеры, все трое были в стрелках поражая неприятеля, гнали с высоты, которую и заняв, держались до ночи, все трое ранены». Штабс-капитан 1-го егерского полка Зябко «в распоряжении своею частию показал расторопность, а в поражении штыками – примерную неустрашимость»…
Аналога такого издания у нас, пожалуй, еще не было. Замечу, что документы сборника впервые публикуются полностью – без лакун и изъятий, столь характерных для советской эпохи. При отборе документов предпочтение, по словам специалистов РГВИА, было отдано источникам, не публиковавшимся после 1917 года. А помимо огромной работы собственно с наградными документами архивисты провели масштабное исследование фондов РГВИА, дабы выявить сведения, чтобы составить биографические справки – хотя бы и очень краткие – на награжденных офицеров, участников сражения, тех, чьи имена значатся в этом сборнике. Увы, но на рядовых и унтер-офицеров, участников войны 1812 года, подобных биографических справок составить нельзя при всем желании – формулярные списки велись лишь на офицерский состав.
Можно только сожалеть, что один сборник просто не в состоянии вместить все наградные документы. Тем более что одной Бородинской битвой Отечественная война 1812 года не исчерпывается. А ведь были еще и сражения Заграничного похода 1813–1814 годов, где наши воины сражались столь же отменно, как и на родной земле.
Россия никогда не забудет «день Бородина», героев войны 1812 года и их подвиги. Сражения и войны выигрывают не пушки, а люди. Список героев войны 1812 года поистине огромный. Эти люди долгое время были для россиян таким же эталоном отваги, воинской находчивости и верности долгу, каким затем стали герои Великой Отечественной. К тому же военный опыт заставил некоторых из них сделать для себя довольно неожиданные выводы гражданского свойства - карьера многих бравых победителей Наполеона закончилась в Нерчинских рудниках… Краткая биография героев Отечественной войны 1812 года будет поведана ниже.
Суворовская закалка
Победа над уникальной (и нечего принижать действительно достойного противника!) армией Наполеона не была бы возможной, если бы русские офицеры 1812 года не получили до того достаточного боевого опыта. Многие из них набирались такового под руководством легендарного А. В. Суворова. Так, М. И. Кутузов был правой рукой великого полководца во время легендарного штурма Измаила. Он же в компании М. Б. Барклая-де-Толли участвовал в штурме Очакова и взятии Аккермана. П. И. Багратион продвинулся по карьерной лестнице благодаря личной поддержке Суворова. И даже Д. В. Давыдов, «летучий гусар», был благословлен генералиссимусом на военную службу - посетив усадьбу Давыдовых, Суворов именно Денису предсказал военную карьеру, хотя тот был мал ростом и комплекции не богатырской.
"Барклай, зима иль русский бог"
Эта поэтическая строфа довольно точно отображает несправедливое отношение к М. Б. Барклаю-де-Толли в русском обществе в течение долгого времени. Его роль в войне рассматривали примерно наравне с ролью «русского бога», то есть вроде и есть, но вроде и нет.
Объяснить это можно влиянием тогдашних националистов, для которых он был прежде всего «немцем». Современники осуждали полководца за постоянные отступления, охотно и без разбору принимая сторону горячего П. Багратиона и прославляя полководческий гений М. Кутузова. При этом мало кто заметил, что Кутузов преспокойно продолжил тактику Барклая, не только отступая, но и отдав врагу Москву.

Главнокомандующий начала
М. Б. Барклай-де-Толли (1761-1818) происходил из ганзейских немцев, его родословная восходила к шотландскому дворянству. Тем не менее в России он считался человеком сомнительного происхождения. Начав службу (реальную!) в 15 лет, чина полковника он достиг 20 лет спустя. Офицеру пришлось воевать с турками, а также против Костюшко. В последние предвоенные годы он занимал пост губернатора Финляндии, а в начале 1812-го стал военным министром. На этом посту он попытался осуществить ряд реформ, призванных наладить дисциплину в армии и улучшить руководство ею. Принятые меры сыграли свою роль во время войны. В 1807 году он впервые описал царю гипотетическую (на тот момент) тактику «выжженной земли», которую считал уместной на случай войны с Наполеоном и которая успешно была применена в войне с оным.
Когда французы перешли границу, Барклай был командующим Первой (Западной) армии в Литве. Он не пожелал придерживаться изначального (мало реального) плана ведения войны, разработанного генералом Фулем, и начал отступление с боями. Это ему потом вменили в вину - армия желала дать бой противнику и не очень задавалась при этом мыслями о том, чем этот бой закончится (закончился бы плохо, ибо таково было желание Наполеона - в генеральном сражении сразу разгромить русских, которых он превосходил числом, оснащением и опытом). Но отступавший Барклай «выжигал землю», изматывал противника многочисленными схватками, избегая генерального сражения. И сохранил армию. То же самое сделал затем и Кутузов, когда в конце августа принял командование. Вот только его рассуждения насчет того, что потеря Москвы не является потерей России и сохранить армию важнее, потомки сочли признаком гениальности, а подобные же рассуждения Барклая - трусостью.
Именно Барклай на совете в Филях решительнее всех высказался за оставление первой столицы, хотя окончательное решение и принадлежало Кутузову.

Фельдмаршал со скверным характером
Биография героя Отечественной войны 1812 года Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745-1813) тоже не так однозначна. Этот человек имел огромный военный опыт, участвовал в трех русско-турецких войнах, его высоко ценил А. В. Суворов. Непосредственно перед началом отечественной войны, в 1812 году, он закончил успешную кампанию против турок в Молдавии. У него было множество заслуженных наград, включая полный комплект георгиевских крестов (на то время - огромная редкость, хотя у Барклая был такой же комплект). У солдат и офицеров, настроенных на решительное ведение войны, Кутузов пользовался большой популярностью.
В то же время его осуждали за откровенное низкопоклонство перед монархами и их фаворитами, за неразборчивость в личных связях. Знал Кутузов и чувствительные поражения (в частности, он был участником битвы под Аустерлицем 1805 года, каковая считается вершиной полководческих достижений императора французов). Царь Александр I Кутузова недолюбливал, и главнокомандующим в августе 1812 года его назначил лишь под давлением «общественности».
Но подлинным проявлением гениальности следует счесть тот факт, что герой войны 1812 года Кутузов, от которого ждали генерального сражения и массового наступления на французов, продолжил, не колеблясь, отступательную тактику Барклая, сохраняя армию. Он решился отступить даже после Бородинского сражения, закончившегося, строго говоря, «вничью».
Подвиг полководца состоит не в том, чтобы с криком «ура» бросаться на врага, а в том, чтобы организовать дело таким образом, чтобы солдаты и нижние офицеры делали это не напрасно.

Позади - Тула
Ведь что, собственно, заставило Наполеона направить основной удар на Москву, а не на Петербург, который был и столицей, и ближе? Вовсе не какие-то сентиментальные соображения, в которых он не слишком разбирался. Император был прагматик - в первую столицу сходились транспортные пути, которыми могли доставить подкрепления из глубины России. И главное - в двух шагах от нее была Тула, главный арсенал России! Падение этого города действительно могло стать фатальным.
Но вот Тулу-то герой Отечественной войны 1812 года Кутузов императору и не отдал. Он отдал Москву, не оставив в ней (по умной идее Барклая) ничего по-настоящему ценного для войны. И пока император французов ждал «ключи старого Кремля», Кутузов использовал тульский потенциал для своих нужд, получил подкрепление, оснастил сохраненную армию, хитрым Тарутинским маневром ввел противника в заблуждение относительно своих планов… У него теперь было все, что нужно для успешного наступления, а у Наполеона не было ни снабжения, ни подкреплений… Вот и закончилась бесславно российская кампания гениального француза, которому доводилось уже бить русского фельдмаршала с плохим характером, но который не сумел справиться с русским на его родине.
Позднее Наполеон говорил, что русский поход был его единственной, но фатальной ошибкой. А Кутузов не дожил до окончательного разгрома наполеоновских войск. Он умер в походе и завещал тело свое отвезти на родину, а сердце захоронить в городке Хольбау - на пути проходящей армии…

Лидер партии войны
Попал в список героев Отечественной войны 1812 года и П. И. Багратион (1765-1812). Он был среди тех, кто наиболее рьяно отстаивал идею наступления и активного противодействия врагу. Дальний родственник грузинских царей, этот генерал начал военную службу рядовым. П. И. Багратион участвовал в военных действиях на Кавказе, войнах с Турцией, Итальянском и Швейцарском суворовских походах, войне со Швецией. На момент начала войны он командовал 2-й Западной армией, расквартированной на Подолии.
Будучи сторонником активных действий, Багратион тем не менее в первые дни войны отводил с боями свою армию. Его удачная оборона существенно замедляла продвижение противника. Особенно результативным оказался бой под Салтановкой. Далее генерал соединился с отрядами Барклая возле Смоленска. Наполеон рассчитывал, что битва за этот город будет столь нужным ему генеральным сражением, но этого не произошло. Два генерала (которые друг друга терпеть не могли) в очередной раз доказали, что всем нежелательным гостям России суждена гибель под Смоленском, но город при том Наполеон не взял, а занял - Багратион согласился на очередное отступление во сохранение армии.
Звездным часом и последним боем генерала стало Бородинское сражение, где ему была доверена оборона укреплений на высотах левого фланга (так называемые Багратионовы флеши). Войска так и не сдались врагу, но сам командующий получил тяжелое ранение и несколько дней спустя умер от гангрены.

Эскадрон гусар летучих
Война 1812 года с полным правом считается эпохой возникновения научно организованного партизанского движения. Его отличие от прошлых случаев состоит в том, что теперь партизанские отряды создавались не стихийно, а целенаправленно, получали задания от армейского командования, поддержку, снабжение. Предшественником Ковпака и Медведева стал Денис Васильевич Давыдов (1784-1839).
Можно смело говорить, что у него был наполеоновский комплекс - Давыдов был маленького роста, тщедушного телосложения и имел неказистую внешность. Но он решил доказать, что все это не мешает быть героем, и стал им. Существует легенда, что в ноябре 1806 года фельдмаршал Каменский лишился рассудка после того, как гусар Давыдов вломился к нему в комнату ночью, требуя отправки на фронт. И добился своего, попав в адъютанты к П. И. Багратиону.
Свой партизанский отряд он создал за несколько дней до Бородинского сражения (кстати, Бородино было родовым имением Давыдова, и лихой гусар понес существенные убытки из-за уничтожения и села, и усадьбы). В течение сентября - декабря 1812 года «летучие гусары» в содружестве с другими отрядами (и армейскими, и крестьянскими) захватили несколько десятков обозов, массу военного имущества и фуража, тысячи пленных (только 3 ноября они взяли трех генералов и 900 французов званием пониже), освободили Белыничи и Гродно. До конца дней Давыдов жалел, что ему не хватило сил для того, чтобы взять в плен самого Наполеона, хотя он как-то столкнулся с императорским дормезом.
Затем ему довелось участвовать в «битве народов» под Лейпцигом, в войнах в Персии и на Кавказе, в сражениях с польскими повстанцами 1830 года. Особой милостью у начальства герой войны 1812 года Давыдов никогда не пользовался, слыл вольнодумцем и нахалом, был автором множества сатирических стихов, направленных против самых почтенных особ, членом литературного кружка «Арзамас» (с него начинал Пушкин), приятелем таких «государевых изменников», как Одоевский, Кюхельбекер, Бестужев.
Гусарский бард
С полным правом Д. В. Давыдова можно считать и зачинателем российского бардовского движения. Как поэт, он не дотягивал до уровня Пушкина (хотя его друзьями были целых два представителя этого семейства, Василий Львович и Александр Сергеевич, дядя и племянник), но был известен как автор стихотворных эпиграмм, романтических и застольных баллад и стихотворений, которые сам же и исполнял под гитару. Написал он и немало прозы, в основном воспоминаний о партизанской войне.
Знакомством с Давыдовым гордились такие столпы литературы, как Загоскин, Грибоедов, Жуковский и Вальтер Скотт. Пушкин тоже принадлежал к числу его поклонников.

Генерал от казачества
Схож характером с Давыдовым был М. И. Платов (1753-1818), атаман донских казаков, основатель города Новочеркасска, участник всех войн рубежа XVIII-XIX веков. Под Бородино платовские казаки сумели уберечь фланги российской армии и не допустили ее обхода врагом, а за всю кампанию сумели захватить у неприятеля 548 орудий, что примерно равно силам французской артиллерии в Бородинской битве.
Платов участвовал и в заграничном походе, битвах под Лейпцигом и Дрезденом. Считается, что именно его казаки обогатили французский язык словом «бистро», требуя у парижских гарсонов наливать им «быстро».
Батарея Раевского
А вот генерал Н. Н. Раевский (1771-1829) хоть и был двоюродным братом Давыдова, совсем на него не походил. Это был примерный солдат, представитель древнего знатного рода, веривший в «веру, царя и отечество». Он служил в гвардии, воевал под началом Потемкина, участвовал в боях на Кавказе. На начальном этапе Отечественной войны корпус Раевского оказался основной силой в битве под Салтановкой.
А на Бородинском поле «батарея Раевского» оказалась самой знаменитой позицией. Она была очень выгодна для артиллерии. Французы были решительно настроены ее захватить. В конце концов им это удалось. Но до того батарея успела стать «могилой французской кавалерии».
Каково же было законопослушному генералу, когда в его семействе внезапно обнаружилось целых три декабриста - брат и два зятя, а дочь Мария стала одной из 12 женщин, отправившихся за мужьями-декабристами в Сибирь! Кстати, Раевский, выдавший дочь за своего боевого товарища, генерала С. Г. Волконского насильно (жених был на 20 лет старше невесты, и она его фактически не знала), потом был категорически против ее поездки в Сибирь!
Памятники героям войны 1812 года
Война 1812 года получила высокую моральную оценку, когда еще не была завершена - долгое время Рождество (совпадавшее с изгнанием Наполеона из Росси) почиталось в государстве как своеобразный день Победы. Многим ли известно, какой храм посвящен героям войны 1812 года? В память о ее героях в Москве был сооружен храм Христа Спасителя. В Петербурге есть Александровская площадь с колонной. Памятник Кутузову и Барклаю был установлен там же. Имелись мемориалы в Смоленске, большой комплекс построили под Бородино. В нижнем Новгороде сейчас есть памятник «1000-летие Руси», который украшают фигуры многих героев 1812 года.
Но есть и более оригинальная память. Так, под Алуштой имеется памятник Кутузову - Кутузовский фонтан, представляющий собой просто родник. По легенде, его вода послужила в 1774 году для оказания первой помощи полковнику Кутузову, раненому в голову в схватке с турками. А столичный Кутузовский проспект с его суперактивным движением и вечными пробками - одна из самых известных улиц мира.
Вторая Отечественная война поставила памятник Багратиону - именем генерала была названа операция по освобождению от гитлеровцев Белоруссии.
Как уже было сказано, слово «бистро» можно считать французским памятником атаману Платову.
А еще под Бородино стоит памятник… французам. Его поставила Россия, согласившись (и справедливо!) с мнением Наполеона, что в 1812 году французы показали себя достойными победы, а русские - достойными того, чтобы остаться непобедимыми. Так что все они - герои войны 1812 года, и их подвиги навсегда остались на страницах истории…
ПОДВИГИ РУССКОГО НАРОДА В ВОЙНЕ 1812 ГОДА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Слонь Никита
класс 4 «б», школа лицей № 5, г. Оренбург
Долгова Валентина Михайловна
научный руководитель, педагог высшей категории, учитель начальных классов,
школа лицей № 5, г. Оренбург
2012 год был объявлен Годом российской истории. В сентябре наша страна отмечала 200 лет Отечественной войне 1812 года. На уроках чтения нам много рассказывали о военных событиях. У нас в школе проходили разные мероприятия, связанные с Отечественной войной 1812 года.
В данной статье мы опишем подвиги русского народа в Отечественной войне 1812 года, представленные в художественной литературе. Для этого мы рассмотрим тексты произведений детской и взрослой литературы; определим принадлежность героев к военному делу (солдат, генерал, партизан-крестьянин и т. д.); проанализируем стихотворные и прозаические тексты. Материалом исследования послужили произведения детской литературы: С.П. Алексеев рассказы («Где искать Багратиона?» , «Тишка и Минька» , «Большие последствия» ), Е.С. Холмогорова «Великодушный русский воин» ; произведения взрослой литературы: Н.А. Дурова «Записки кавалерист-девицы» , И.А. Крылов «Волк на псарне» , М.Ю. Лермонтов «Бородино» , В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов» .
Рассмотрим подвиги героев войны 1812 года в детской литературе. В рассказе С.П. Алексеева «Где искать Багратиона?» говорится о смелости, мужестве генерала Багратиона во время Бородинского сражения. Армия Багратиона занимала левый фланг. Кутузов понимал, что тут (место открытое) французы начнут атаку. Так оно и вышло, три кавалерийских корпуса, пехота, лучшие французские маршалы Ней, Даву, Мюрат двинулись в бой. Посыльные от Кутузова не могут найти Багратиона потому, что он всегда в самом жарком месте боя. Сам Багратион часто говорил: «Не генерал я, а первый солдат».
Рассказ «Тишка и Минька» повествует о мальчиках, которые спасли русского офицера от смерти. Они рискуя жизнью выбрались из подвала и затащили его в дом. Тишка от исподней рубахи оторвал клок и приложил к рваной ране офицера, они подавали ему пить, поливали на голову водой. Когда в город пришли русские, отец мальчиков передал офицера санитарам.
Подвиги гусара Д. Давыдова описаны Алексеевым в рассказе «Большие последствия» . Давыдов рассказал начальнику князю Петру Багратиону свой план борьбы с французами: «Нужно оставить в тылу наши конные отряды, чтобы они французские обозы и мелкие части щупали. Будет немалый урон врагу. Прошу казаков и гусар - докажу, как возможное». Багратион одобрил его решение. Так возник первый партизанский отряд.
Рассказ Е.С. Холмогоровой «Великодушный русский воин» сообщает о храбром генерале Раевском. Однажды Раевский получает приказ задержать наступление французского маршала Даву. Раевский первый завязывает бой, чтобы французы подумали, что перед ними основные силы. Хитрость Раевского удалась, но солдаты Раевского стали медленно отступать, силы слишком неравные. В переломный момент сражения генерал примчался на передовые позиции, с ним его два сына (16-летний Александр и 10-летний Николай). Он крикнул: «Вперёд, ребята! Я и дети мои с вами!». Началась жестокая схватка. Грозный вид надвигающихся русских солдат устрашил Даву, и он дал приказ отступать.
Опишем героизм русского народа в Отечественной войне в литературе для взрослых. Книга Н. Дуровой «Записки кавалерист-девицы» рассказывает о подвигах женщины во время войны. Записки написаны от лица самой героини, она последовательно описывает события. В день своих именин, семнадцатого числа, Надежда обрезала косы, надела казакин и шапку с красным верхом. Чтобы запутать следы, она сбежала к Каме и оставила на берегу свое женское платье. Она представилась сыном помещика Александром Дуровым. Казачий полковник разрешил «Александру Васильевичу Дурову» стать в строй первой сотни. Поход продолжался более месяца. Дурова привыкла к тяготам военной службы: носить мужскую одежду, владеть саблей и пикой, постоянно сидеть в седле. В Гродно Дурова завербовалась в регулярные войска - рядовым в Коннопольский уланский полк, под именем Соколова. Дурова горела желанием послужить Отечеству. В бою 22 мая 1807 года Дурова совершила геройский подвиг - рискуя собой, спасла жизнь раненого офицера, поручика Финляндского. 29 и 30 мая Дурова снова участвует с полком в двухдневных боях под Гейльзбергом, проявляя чудеса храбрости. Корнет Александров участвует в боях 1812 года (под Миром, Романовым, Дашковкой, в конной атаке под Смоленском, в Бородинском сражении). В Бородинском сражении получает контузию в ногу. 29 августа Александров был произведён в поручики, а после оставления Москвы становится ординарцем главнокомандующего фельдмаршала М.И. Кутузова. Интересно читать эти записки, потому что они принадлежат самой участнице военных действий. Читая записки, мы разделяем с Надеждой все её чувства: страх, что откроется обман (она женщина!), любовь к своему коню Алкиду, бесстрашие в бою и др. Пример Надежды Дуровой ещё раз доказывает нам, что война была Отечественной.
Басня И.А. Крылова «Волк на псарне» написана на события 1812 года, когда Наполеон вошел в Москву и стал искать путей заключения мира с Россией. Но Кутузов решительно отклонил французские предложения. Крылов сатирично описывает ситуацию, в которую попал враг: « Волк ночью, думая залезть в овчарню./ Попал на псарню./ Поднялся вдруг весь псарный двор./ Почуя серого так близко забияку». В образе Волка Крылов видит Наполеона. Псы у Крылова - это русские воины, желающие вступиться за своё Отечество. Русские смогли защититься и сохранить боеспособную армию. Ключей от Москвы Бонапарт так и не дождался, не получилось того триумфа, на который рассчитывал полководец. Крылов очень хорошо передает ту ситуацию, в которой оказался Наполеон, заняв пустую Москву: « Мой волк сидит, прижавшись в угол задом /Зубами щелкая и ощетиня шерсть, /Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть». В образе седого ловчего Крылов выводит мудрого и опытного Кутузова, который категоричен и непреклонен: « Ты сер, а я, приятель, сед, /И волчью вашу я давно натуру знаю; /А потому обычай мой /С волками иначе не делать мировой, /Как снявши шкуру с них долой». В комментариях к книге мы читаем, что «по словам современников, Кутузов, получив басню от Крылова, прочитал её собравшимся офицерам. При словах «а я, приятель, сед» снял свою фуражку и потряс наклонённою головою». Победно звучит заключительная фраза басни, Крылов ничуть не сомневается в победе русского оружия.
Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» мы изучали на уроках чтения. В стихотворении рассказ о войне доверен рядовому участнику боя - солдату. В первых строках поставлен вопрос и уже дан ответ: в Бородинской битве проявились богатырские силы народа. Патриотизм солдат и был той силой, которая решила исход войны. Третья строфа начинается в медленном темпе («Мы долго молча отступали…»), который передает неторопливое течение событий, и недовольство солдат, их горечь, боль, стыд. При переходе к четвертой строфе важны слова «И вот», подчеркивающие, что Бородинская битва произошла по воле народа тоже. Рассказ о поведении солдат в ночь перед боем весь пронизан ожиданием: «Но тих был наш бивак открытый: /Кто кивер чистил весь избитый, /Кто штык точил, ворча сердито, /Кусая длинный ус». Образ полковника, его речь и клятва солдат - идейный и эмоциональный центр стихотворения. Следующие три строфы - сам Бородинский бой. Каждая из них начинается с восклицания, затем дается картина боя и выражаются чувства солдат. В предпоследней части стихотворения выражены два чувства; гордость за русских солдат и скорбь о погибших. Несмотря на потери, живые остались стоять на своих позициях и это свидетельствует о моральной победе русских над наполеоновскими войсками. Значит, гибель героев была не напрасной. Это ответ на вопрос первой строфы стихотворения. Поэтому появляется раздумье, завершающее стихотворение и повторяющее вторую строфу. В «Бородине» поэт рисует войну справедливую, национальную, освободительную. В стихотворении не раз повторено слово «русский»; слово «родина» звучит как призыв к битве. Поэт подчеркивает отношение народа к войне как к серьезному воинскому долгу. Это, наверное, основное в стихотворении: общность людей перед лицом врага.
В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов». Из комментариев к стихотворению мы узнали, что в 1812 году Жуковский записался ратником в Московское дворянское ополчение. В обстановке военных действий он сочинил стихотворение «Певец во стане русских воинов», которое было напечатано, на поле боя, в Тарутино, где находился главный штаб. Название произведения определяет место действие и героев. В кругу воинов певец прославляет героев русской истории: Святослава, Донского, Петра, Суворова. Помимо героев исторических, он призывает поднять кубки за героев современности: Кутузова, Ермолова, Раевского, Платова, за погибших Багратиона и Коновницына. В этом стихотворении поэт поднимает патриотическую тему, отстаивая идею народности, воздавая хвалу русскому оружию и героизму воинов.
Результаты, полученные нами в ходе работы, мы занесли в таблицу:
Таблица 1.
|
Детская литература |
Взрослая литература |
||||
|
Название произведения |
Название произведения |
||||
|
С.П. Алексеев «Где искать Багратиона?» |
Генерал П.И. Багратион |
Н.А. Дурова «Записки кавлерист-девицы» |
Женщина Н.Н. Дурова- корнет Александров |
||
|
С.П. Алексеев «Тишка и Минька» |
Мальчики Тишка и Минька |
И.А. Крылов «Волк на псарне» |
Фельдмаршал М.И. Кутузов |
||
|
С.П. Алексеев «Большие последствия» |
Партизан Д. Давыдов |
М.Ю. Лермонтова «Бородино» |
Русский солдат |
||
|
Е.С. Холмогорова «Великодушный русский воин» |
Генерал Н.Н. Раевский, его сыновья(16летний Александр и 10-летний Николай) |
В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов» |
Певец, воины |
||
Из полученного материала можно сделать следующие выводы:
1. Все произведения пронизаны единым духом борьбы против армии Наполеона.
2. Независимо от принадлежности произведения к детской или взрослой литературе, все произведения объединены одним - «памятью сердца», страстным желанием поведать правду о пройденных дорогах войны.
3. Весь русский народ: взрослые и дети, отцы и сыновья, дворяне и крестьяне, мужчины и женщины встали на защиту своей Родины.
Выполняя эту работу, мне хотелось бы ещё раз напомнить о тяжёлых днях нашей Родины. Победа народа в войне - это победа каждого русского человека - патриота своей Родины.
Список литературы:
- Алексеев С.П. Сто рассказов из русской истории. - М.: АСТ, Астрель, 2008. - 256 с.
- Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Предисл. А.А. Шепталина. ― Ижевск: Удмуртия, 2012. ― 112 с.
- Жуковский В.А. Певец во стане русских воинов: Стихотворения. Баллады. Поэмы. - М.: Эксмо, 2008. - 608 с.
- Крылов И.А. Волк на псарне //Бородинское поле: 1812 год в русской поэзии: для старшего школьного возраста / сост., предисл. Л.Г. Фризман. - М.: Детская литература, 1989. - С. 56.
- Лермонтов М.Ю. Бородино// Бородинское поле: 1812 год в русской поэзии: для старшего школьного возраста / сост., предисл. Л.Г. Фризман. - М.: Детская литература, 1989. - С. 222.
- Холмогорова Е.С. Великодушный русский воин - М.: Малыш, 1991, 40 с.